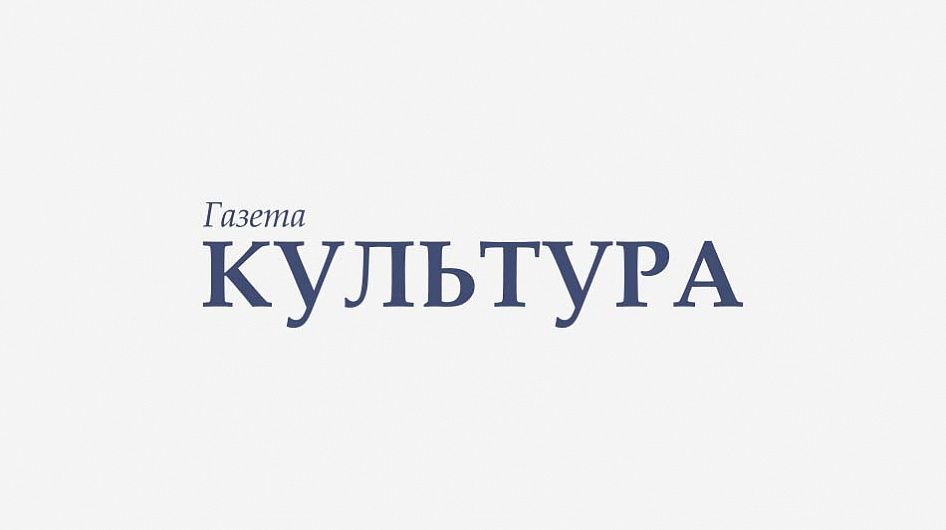
Ты помнишь, Алеша...
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, / Как шли бесконечные, злые дожди, / Как кринки несли нам усталые женщины, / Прижав, как детей, от дождя их к груди»...
Знаменитые строки, впоследствии переложенные на музыку, точнее, первые к ним наброски были написаны прыгающим почерком — на ходу, в машине. Видавший виды известинский пикап вез военкоров Симонова, Суркова, Калашникова и Трошкина из Смоленска в Борисов. Там, по слухам, дралась танковая дивизия. Но выстрелов не слышалось. «Ни единого выстрела за всю поездку». Только дорога. Утомительная. Долгая. Петляющая через глухие, неведомые деревни. И люди, бредущие по ней. Они несли наспех прихваченный скарб. Нелепый, унылый. Цветочные горшки с погнувшимися фикусами, сломанные велосипеды, скалки, гладильные доски, какое-то тряпье.
«А по дорогам шли беженцы из-под Белостока, из-под Лиды... — запишет в дневниках Константин Михайлович. — Они ехали на невообразимых арбах, повозках. Ехали и шли старики, каких я никогда не видел, с пейсами и бородами, в картузах прошлого века. Шли усталые, рано постаревшие женщины. И дети, дети, дети... Детишки без конца. На каждой подводе шесть — восемь — десять грязных, черномазых, голодных детей».
В самом начале войны, когда наша армия отступала, Симонову доводилось видеть куда более впечатляющие картины. Обочины, усеянные трупами мирных жителей, все тех же беженцев, угодивших под авиационный обстрел. Города с выжженными бомбардировками центральными площадями и нетронутыми «мирными» окраинами. Брошенные поселки. До отказа набитые вагоны. Деревни, где столпившиеся у околиц жители молча, одними глазами спрашивали: где немцы? Нам пора уходить?
И все же дорога в Борисов казалась какой-то особенно беспросветной, бессмысленной, а может, попросту пыльной. За окном мелькали названия захолустных городков: Рославль, Кричев, Чериков, Пропойск. В одном из них Симонов с Калашниковым даже нашли работающий буфет и выпили ликера.
Адресат знаменитого стихотворения, спецкор «Красной звезды», батальонный комиссар, поэт, журналист, впоследствии лауреат двух Сталинский премий, Алексей Сурков — Алеша — надуто молчал. Сорокалетний «газетный волк» предпочитал уточнять информацию, не ехать наобум, куда глаза глядят. Но молодежь «старика» не слушала, рвалась вперед. Не хотели возвращаться без материала. От нечего делать подшучивали над водителем. Веселый, хитроватый, до невозможности говорливый Павел Иванович Боровков имел свои представления обо всем на свете. В том числе и об опасности. То полз двадцать километров в час с открытой дверцей, чтобы в любой момент выпрыгнуть — боялся самолетных обстрелов. То вдруг выжимал из пикапчика восемьдесят — в уверенности, что вот теперь стрелять ни за что не станут. Боев действительно поблизости не было. Журналисты решили вернуться в Смоленск. Окончательно пропылившиеся, заехали в какую-то деревеньку, заглянули в избу. Оклеенные газетами стены, рамочки, цветные вырезки. В правом углу — божница.
«Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, / По мертвому плачущий девичий крик, / Седая старуха в салопчике плисовом, / Весь в белом, как на смерть одетый, старик».
Из воспоминаний Константина Симонова: «На широкой лавке сидел старик, одетый во все белое — в белую рубаху и белые порты, — с седою бородой и кирпичной морщинистой шеей. Бабка, маленькая старушка с быстрыми движениями, усадила нас рядом со стариком на лавку и стала поить молоком. Сначала вытащила одну крынку, потом другую. Зашла соседка. Бабка спросила: «А Дунька все голосит?» — «Голосит», — сказала соседка. — «У ней парня убили», — объяснила нам старуха. Потом вдруг открылась дверь в сени, и мы услышали, как близко, должно быть в соседнем дворе, пронзительно кричит женщина. Бабка, сев рядом с нами на лавку, спокойно следила, как мы жадно пьем молоко. «Все у нас на войне, — сказала она. — Все сыны на войне, и внуки на войне. А сюда скоро немец придет, а?» — «Не знаем», — сказали мы, хотя чувствовали, что скоро. — «Должно, скоро, — сказала бабка. — Уж стада все прогнали. Молочко последнее пьем. Корову-то с колхозным стадом только отдали, пусть гонят. Даст бог, когда и обратно пригонят. Народу мало в деревне. Все уходят». — «А вы?» — спросил один из нас. — «А мы куда ж пойдем? Мы тут будем. И немцы придут, тут будем, и наши вспять придут, тут будем. Дождемся со стариком, коли живы будем». Она говорила, а старик сидел и молчал. И мне казалось, что ему было все равно. Все все равно. Что он очень стар и если бы он мог, то он умер бы вот сейчас, глядя на нас, людей, одетых в красноармейскую форму, и не дожидаясь, пока в его избу придут немцы. А что они придут сюда, мне по его лицу казалось, что он уверен».
На обратном пути не было ничего примечательного. Трясясь в пикапе, поэт писал стихи. О том, чтобы ничего не оставлять немцам. Чтобы все сжечь. Чтобы сама природа, изуродованная, обугленная, повернулась против них. «Стихи были, кажется, ничего, лучше обычных газетных, но именно из-за этих сильных выражений они так и не попали в «Красноармейскую правду», — признавался он в мемуарах.
Легендарные строки «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» родились позже. «Был ноябрь сорок первого года, возвращаясь с Мурманского участка фронта, мы по дороге в Архангельск застряли во льдах. Там-то и вспомнились первые недели войны, все пережитое тогда и отстоявшееся в душе, именно все, а не только одна наша поездка под Борисов, <...> самая точная и близкая к жизни подробность».


