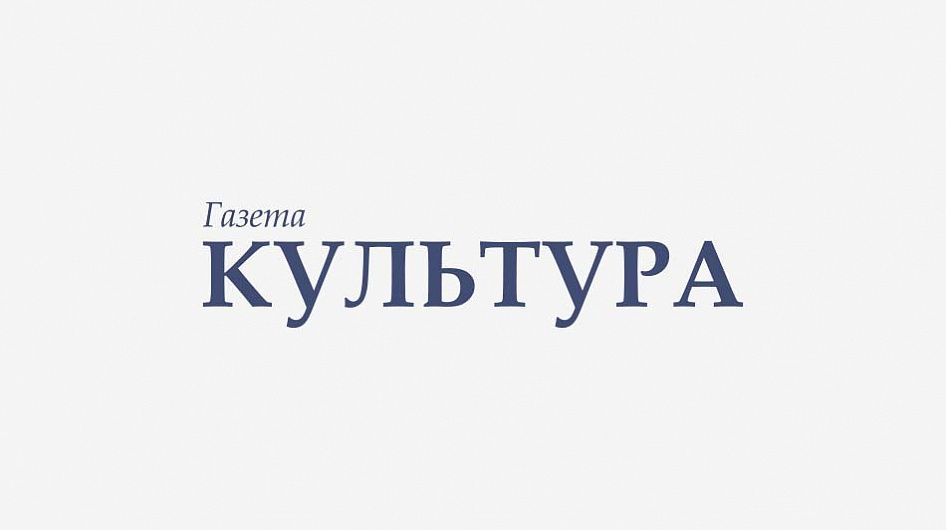
Книжные премьеры ноября: неухоженная выдра и прозеванный гений
В числе самых рейтинговых литературных новинок — очередной роман Наринэ Абгарян и долгожданная биография самого парадоксального русского классика Николая Лескова от Майи Кучерской.
Наринэ Абгарян. «Симон», АСТ, 2020
Писательницу с кавказским колоритом и внушительным тиражом в 800 тысяч экземпляров обожают взрослые и дети — всем памятны ее искрометные и трогательные рассказы про «уважительные отношения» осла Марлезона и его хозяина Бочканц Ованеса, громкую и хлопотливую Мамиду, наивную и прекрасную Зулали, обладающую редким даром человечности, несмотря на слабоумие.
Любят Абгарян и критики, не поскупившиеся на почетное место «где-то между Маркесом и Искандером», но ближе к последнему — настолько мифогенным кажется ее буколический рай в опаленном аравийском жарой, пропахшем несуществующим морем горном Берде. Тут растет самый сочный инжир, здесь шьют лучшую обувь и готовят самый вкусный мацун, а по ночам над домами и лавками нет-нет да и пролетит семикрылый серафим.
Удивительна и история «литературной Золушки»: Наринэ «выстрелила» на волне популярности «Живого журнала» вместе с Мартой Кетро, Дмитрием Воденниковым, Верой Полозковой.
Ее автобиографическая повесть о Манюне, выкладывавшаяся небольшими фрагментами, принадлежала к числу тех вещей, которые могут «сделать день»; вскоре у писательницы образовалась целая армия поклонников.
Прозу Абгарян сравнивают с воспоминанием об «идиллическом отпуске, которого не было», впрочем, это лишь вершина ее айсберга. В пейзанском Эдеме прочно поселилась драма, колоритный, хлопотливый быт часто становится фоном трагической обреченности, юношеская любовь оборачивается воспоминанием о ней безнадежной больной, и даже первая «детская» повесть про Манюню — еще и о войне.
Новый роман «Симон» из той же серии. В маленьком горном городке Берд умирает каменщик Симон, а в доме жены собираются женщины, которые его любили и «ножницами вырезали из сердца».
История начинается с гротеска: Меланья вспоминает, какую жизнь прожил ее только что преставившийся 79-летний муж. Симон был душой компании, в тратах себя не ограничивал, ел и пил так, будто назавтра утвердят сухой закон, «завтракал вином для бодрости», «обедал тутовкой от изжоги», «ужинал кизиловкой, чтобы крепче спалось». Несмотря на царящие в Берде пуританские нравы, в интрижках себе не отказывал.
«Любил женщин — самозабвенно и на износ, очаровывался с наскока, ревновал и боготворил, на излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение.
Меланья по молодости устраивала мужу сцены ревности, но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы. И все же иногда, чтоб не слишком зарывался, закатывала скандалы с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс. Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, грохая об пол посуду.
— Ишь! — комментировал, подметая потом осколки. Пока он прибирался, Меланья курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа. Жили, в общем, душа в душу».
Не менее колоритно описана сцена поминок, где пожилые односельчанки, не видевшиеся много лет, стараются произвести друга на друга впечатление.
«Из далекого Эчмиадзина приехала Бочканц Сусанна и в один миг взбесила публику литературной речью, высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами. Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца-оборванца. Сусанна вернула брови на законное место и, расслабив узел рта, перешла на диалект, чем сразу же снискала благосклонное к себе расположение. Последней пришла Вдовая Сильвия, удачно выдавшая дочь замуж в Россию. Невзирая на октябрьскую теплынь, она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе. Встав к окну спиной (чтоб дневной свет не ложился на «упавшее лицо», но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба), она, делая многозначительные проникновенные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке. Поэзия стала последней каплей. Бесцеремонно подвинув чернобурку, Меланья ушла к себе, переоделась в маркизетовую блузку и длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру юбку, заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем. От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы из слоновой кости с сожалением отказалась. Зато напудрилась и подкрасила губы — не сидеть же среди этих расфуфыренных куриц неухоженной выдрой!»
Впрочем, как и всегда у Наринэ Абгарян, сарказм и ирония постепенно утрачивают свою плотность, уступая место лиризму течения частной жизни. И вот уже Вдовая Сильвия в чернобурке становится маленькой Сильвией, которая живет на Садовой и, встав на цыпочки, собирает для бабушки сочно-сладкие желтоватые груши, стараясь не повредить их нежных лепестков, а потом юной Сильвией, окончившей школу с золотой медалью и стыдливо прятавшей женскую стать за бесформенными пиджаками... Собственно, и вся книга, обозначенная мужским именем «Симон», — это очень личные, описанные с большой психологической достоверностью истории женщин, романы взросления, воспитания и искушения и спасения.
Майя Кучерская. «Лесков. Прозеванный гений», «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 2020
Молодогвардейцы продолжают ряд крафтовых биографий — авторских высказываний. Хитами издательства уже были «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» критика Льва Данилкина, «Ее Лиличество на фоне Люциферова века» Алисы Ганиевой, «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина, толстовская серия Павла Басинского, пополнившаяся недавней биографией Софьи Андреевны под интригующим заглавием «Соня, уйди!».
Новым аккордом стал «Лесков» Майи Кучерской. Литературовед, педагог, автор бестселлеров «Тетя Мотя» и «Бог дождя» заявляла о своем желании написать о самом парадоксальном, «прозеванном» и «разорванном» русском гении еще в середине нулевых, но осуществила задуманное без малого два десятилетия спустя. Это и понятно: несмотря на богатую экранную жизнь «Леди Макбет...», «Левши» и «Очарованного странника» и статус хрестоматийного классика, в Лескове есть какая-то магическая заговоренность — этого эмпирика и кудесника слова литературоведение обходило стороной. Виной тому – знаменитое «лесковское кружево», когда читателю не вполне понятно, кто перед ним – автор или пересмешник-рассказчик, «от дурака» ли эта мысль, или «от умного» откровение. Вопрос — к чему все эти иконические праведники, лукавые мужички, у которых «правда босиком ходит, да брюхо под спиной носит», страшные влюбленные женщины и блохи, которых то ли надо подковать, а то ли и не надо, – ставил в тупик как современную писателю демократическую и консервативную критику, так и советских исследователей. Первые вскоре махнули рукой, записав Лескова в сочинители «русских антиков», вторые пошли привычным путем докьюментари.
Прорывом в лескововедении стала изданная в начале 80-х работа Льва Аннинского «Лесковское ожерелье», в котором мистификация переходящим в инвективу сказом рассматривалась через призму диалектики русской души.
«Мы живем в двойственном мире, отсюда противоречивость лесковской драматургии. Его герой лукавит, раскидывает чернуху, оттого что чует над собой огромную, всеподавляющую тяжесть мира, – рассказывал литературовед в интервью «Культуре», вышедшем в год 185-летия со дня рождения классика.
Интерес Майи Кучерской к Лескову не случаен. Христианский идеалист, разрывающийся между нелепицей жизни и высокими бытийными смыслами, для автора парадоксалистской религиозной очеркистики фигура вероучительская. Достаточно вспомнить, что первая книга Кучерской, принесшая ей читательский успех — «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», — совмещала проникновенные образцы богомыслия с фантастическими народными россказнями и подражаниями иерейскому фольклору «Один батюшка был людоедом». Свободу смешивать непостижно глубокое с неприкрыто абсурдным, умиление со страшилкой Кучерская рассматривает в качестве лесковской художественной матрицы.
«Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но все в ней вечно скатывалось в водевиль, сползало в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, — изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга, — пишет Кучерская. И спустя несколько абзацев добавляет: — Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства: действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность — для него все это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете — тогда он их придумывал. «Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков. Лесков — христианский идеалист».
Фото: www.s1.1zoom.ru, www.i.artfile.ru


