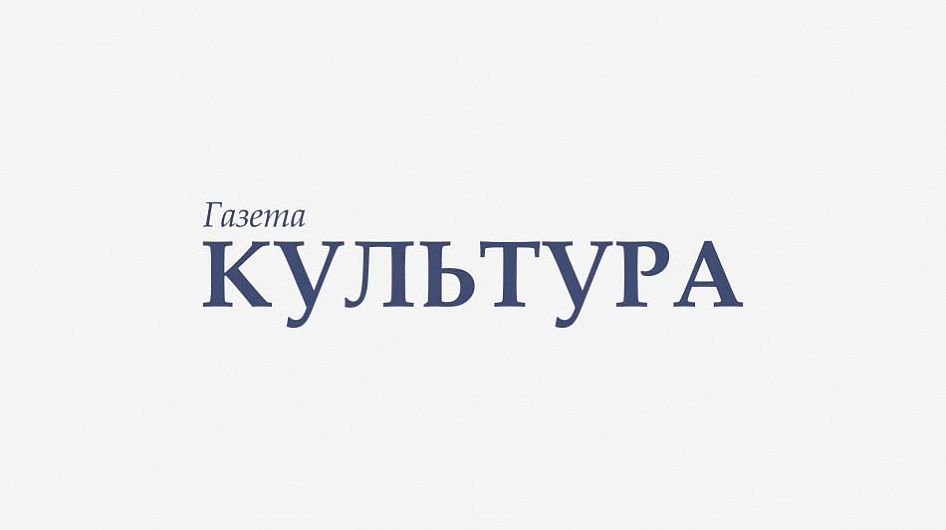
Стойкий оловянный догматик
К середине 50-х Александр Фадеев — один из самых именитых, читаемых, цитируемых советских писателей, литературный чиновник первого ряда. Лишь перечисление премий, заслуг, регалий и званий комиссара Булыги (такой революционный псевдоним носил будущий прозаик) тянет на небольшую статью. На том-другой можно развернуть легенды, апокрифы и мифы, связанные с его именем. Фадеев покончил с собой ровно 60 лет назад, 13 мая, в подмосковном поселке Переделкино.
За два с половиной месяца до самоубийства писателя состоялся судьбоносный XX съезд КПСС, на котором Хрущев разоблачил то, что называлось «культом личности». Поворот к «оттепели» становился неминуем, на авансцену рвалась полная надежд (являвшихся во многом плодом воображения) молодежь, жаждавшая петь об антимирах. Стариков принимали — покаявшихся и отмежевавшихся от Сталина. Александр Александрович предпочел застрелиться.
При жизни перед Фадеевым заискивали (еще бы — член ЦК, руководитель Союза писателей), после смерти обвиняли как в личных злоупотреблениях, так и в репрессиях против коллег по цеху.
В 60-х его публицистику и литературное наследие, за исключением кристально-канонических «Молодой гвардии» и «Разгрома», начали задвигать.
Прошло еще двадцать лет с гаком, и советская номенклатура стала по-тихому готовиться жечь партбилеты и вещать о том, что нужно куда-то «ускориться». На этом печальном фоне Александр Фадеев выглядел представителем совсем иной страны, сгинувшей, словно Атлантида. Так «вовремя», в 1990-м, появившееся в печати его «предсмертное письмо», доселе заботливо хранимое в архивах КГБ, должно было окончательно расставить точки над i. Мол, существовал такой стойкий сталинский ретроград, поделом прищученный еще Хрущевым, и совершенно точно не следует брать его из советского прошлого в светлое демократическое завтра.
«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено... Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять».
О том, чему Фадеев «отдал жизнь свою», он пишет в своих произведениях ярко, сочно, убедительно. В романе-эпосе «Последний из Удэге», повествующем, как шагала по Дальнему Востоку новая власть, сказано вот что: «Во всех этих людях, каждый из которых страдал, отмеченный болезнью или уродством, были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и силы, — нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел».
Фадеев открыт, насколько это вообще возможно для человека его профессии. Объясняя, зачем нужна не требующая нюансов прямота, он пишет: «Нам первым выпало на долю счастье рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастье — детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный, из художников прошлого».
«Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из Удэге» — реализация творческого метода, который проще всего определить как «искусство быть партийным», то есть доходчиво творить не от своего лица, а от сотен и тысяч безымянных дальневосточных партизан (каким на советской заре был и сам Фадеев), вчерашних крестьян и читателей заводских многотиражек. Искусству предстояло стать достоянием людей, зачастую познавших только букварь, и можно сколь угодно презрительно посматривать на них, но кто-то же тянул по всему Союзу невероятные километры линий электропередачи. Это не были завсегдатаи литературных салонов.
Фадеев честно верил в советское будущее и именно потому, находясь на протяжении четверти века у кормила огромного хозяйства под названием «Союз писателей СССР», постоянно хлопотал за десятки знакомых и чужих, за всякого, кому требовалась помощь, стараясь исправить проблемы, а не зарыдать о них в голос. О своих трудностях до последних дней он говорил скупо, это было не к лицу. Не власть, а само бытие, история, страна требовали от писателя предельной самоотдачи. У словесности есть призвание — менять жизнь. Таковой являлась ключевая догма Фадеева, его символ веры, от которого он не отрекся.
Ему нельзя было ни гнуться, ни ломаться, оставалось лишь пламенно гореть. Если кто и обладал силой, чтобы попытаться решить еще гоголевскую проблему отсутствия Рая в России, где, напротив, Плюшкин соперничал с Городничим в том, кто пал ниже, — так это они, полузабытые, сданные в архив, оболганные советские реалисты. Чичиков не смог стать положительно прекрасным человеком, Мышкин сошел с ума, Нехлюдов растворился в огромной стране. А вот у «молодогвардейцев» Олега Кошевого и Ульяны Громовой получилось. Всякий, кто скажет, что эти образы не слишком убедительны, пусть попробует теперь создать героя, за которого не стыдно. Пролетарский догматик Александр Фадеев, писавший «Разгром» под влиянием Льва Толстого, решил уравнение, и не вина автора в том, что за давностью лет эти усилия были преданы забвению.
Спокойная и объективная биография партизана Булыги ждет нового автора. Сложный, ошибавшийся, страстный сын своего времени, Фадеев может стать хорошим примером того, что жернова истории — еще не приговор, шанс на посмертную реабилитацию есть и у писателя, который много лет входил к «тирану» с докладом о состоянии отечественной литературы. И просто не захотел пережить разоблачение «культа» вождя, идущее рука об руку с осуждением издержек и перегибов всей героической эпохи.


