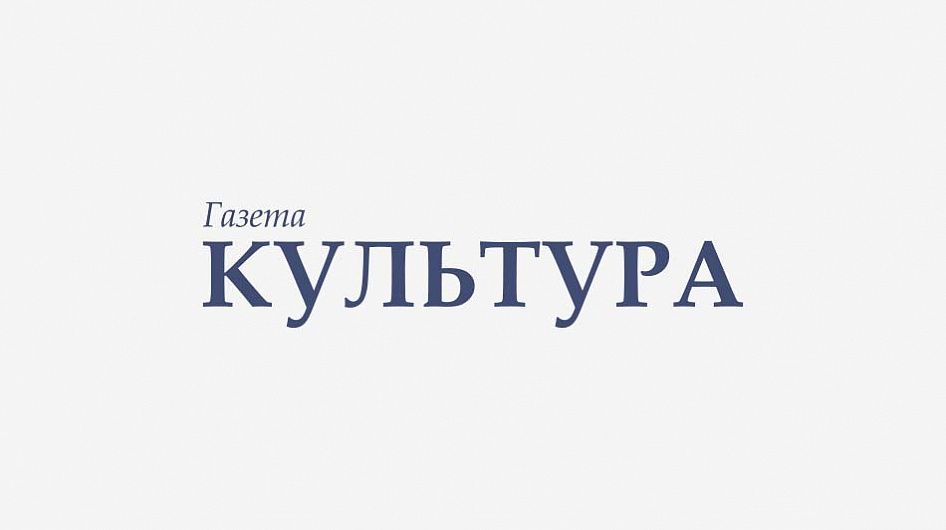
Русские люди
Комната с большой печкой, в красном углу иконы. Рядом пришпилена фотокарточка. Парень в фуражке и шоферских рукавицах. Иван Сафонов, таксомоторист, весельчак, «беда для баб». Сейчас на фронте — командует автобатом. Его мать, Марфа Петровна, сидит за картами, напротив — Мария Николаевна в пальто. «А помнишь, Маруся, как мы с тобой на женихов гадали? В тысяча девятьсот восьмом году <...> думали все, какие они явятся. Хорошие, наверное. И вот оказалось все напротив. Мой и пожить со мной не успел — помер. А твой, ты извини, какой гадюкой оказался...» — «А что ему было делать? Пришли, стали в доме жить. Потом городским головой назначили».
Пьеса об оккупированном провинциальном городке, храбрости и преданности, застарелой обиде на большевиков, своей рубашке, что «ближе к телу» и, конечно, о любви была написана полустершимся карандашом военного корреспондента — торопливо, между делом. Сплетение судеб, столкновение характеров. Простые суждения обычных людей. «Помирать, так со смыслом». «Сегодня невеста, а завтра вдова». «Если б не революция, жил бы в покое и уважении». Кто-то готов сражаться до последнего, другие просчитывают — домик в Виннице, сад... Третьи просто боятся. Предательства и подвиги — без подготовки.
«Попробуйте представить, что вы, двадцать два человека, занятые в пьесе, принуждены защищать от врага театральное здание, в котором репетируете, — обращался Симонов к труппе. — Когда человеку суждено драться, то даже невольно он станет именно на то место в обороне, к которому по своей природе больше всего приспособлен».
Особой игры воображения не требовалось: премьера проходила в единственном еще не эвакуированном из прифронтовой столицы Московском театре драмы. Не прекращались бомбежки. Зрители сидели в холодном зале в шинелях и полушубках, готовые в любую минуту сорваться с мест по сигналу боевой тревоги. Да и актеры работали фактически по наброску — режиссер Николай Горчаков получил от автора не весь текст, а лишь первый акт. Симонов спешил, не мог пропустить уходившую в действующую армию корреспондентскую машину. Тогда он еще не представлял, какими тиражами разойдется его «тоненькая тетрадка в семьдесят границ машинописного текста». «Русские люди» вошли в число трех самых значительных драматургических произведений о войне — вместе с «Фронтом» Александра Корнейчука и «Нашествием» Леонида Леонова. Пьесу поставили на всех сценах страны (ряд спектаклей запомнился яркими актерскими работами), в конце 42-го премьера с успехом прошла в Нью-Йорке, а год спустя вышел фильм Всеволода Пудовкина и Дмитрия Васильева «Во имя Родины».
Текст — от первого акта до последнего — печатали на страницах «Правды», рядом со сводками Совинформбюро. Читали все и везде — в тылу после трудового дня, на фронте в перерывах между боями. «Хорошо помню, — вспоминал автор, — как в дни самых тяжелых неудач, мы, люди, которым надлежало через газету рассказывать народу о том, что происходит на фронте, искали и находили тех, рассказ о которых вселял веру в победу».
Самой яркой инсценировкой стал спектакль Бориса Равенских — премьера в Малом, в 1975 году, к 30-летию Победы. Музыка Чайковского и Рахманинова, строгие марши лестниц, площадки, похожие на пьедесталы, скульптурность в движениях актеров, метафорическая наполненность мизансцен. Разведчица Валя ассоциировалась с тонкой юной березкой, Марфа Петровна — с Матерью-Родиной с известного плаката, предатель прятал за спиной кинжал. Фашисты и вовсе казались гротескными: психологический садист Розенберг, солдафон Вернер. «Мягкая тушировка», если пользоваться терминологией критиков тех лет, присутствовала только в образе старика Васина, бывшего штабс-капитана, георгиевского кавалера. Затаенные опасения, боль, былые обиды и высокие представления о долге, чести, любви к отчизне.
В середине 70-х эта история была программной — в школьных сочинениях персонажей уверенно делили на чистых и нечистых, героев и «недочеловеков», приправляя торжественный гимн доблести анафемой трусам. Что же до Симонова, то он просил играть одну из своих лучших пьес «негромко». В далеком 42-м начинающий драматург вовсе не искал метафор: просто подмечал характеры, запоминал людей, встреченных на дорогах войны.
«Вы из Штеттена, господин-офицер?» — вдруг поинтересовалась на допросе пятидесятилетняя «старуха» Марфа Сафонова. Та, что гадала на картах в избе с красным углом. — «Ну и что?» — переспросил Вернер. — «Хотела бы полететь к вам туда невидимо, взять ваших матерей за шиворот и перенести их сюда по воздуху, показать сверху, чего их сыновья наделали. И сказать: видите вы, суки, каких жаб нарожали».
Старуху, конечно, повесили. Разведчицу Валю наши успели освободить. Так было в пьесе. Как на самом деле, Симонов не знал — ему далеко не всегда удавалось отслеживать судьбы прототипов. Да и не всегда это были реальные люди. Порой образы возникали «из воздуха» — впечатлений, реплик, мимолетных взглядов. Вот так и сотрудничающий с фашистами предатель Харитонов сложился из услышанной на вокзале «эвакуационной» фразы: «Мои вещи без меня — всегда вещи, а я без вещей — дерьмо». И из воспоминаний о русском бургомистре Феодосии, очерк о котором вышел в «Красной звезде»: «У этого человека не было никаких принципов. <…> И он очень боялся...»


